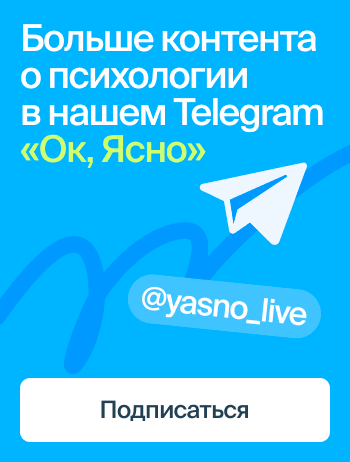Сева Ловкачев: простить родителей
Автор: Под редакцией Тины Вахрамянц, 18 июля (3 183 просмотра)

Я вырос в интеллигентной семье архитекторов и конструкторов ледоколов. В нашем поколении не было безотцовщины, наследственного алкоголизма и прочих ужасов. Все ходили в Эрмитаж, были трезвые и творческие — например, рисовали. Я тоже рисовал еще до школы: мне оставляли пачку бумаги А4 и я на два-три часа уходил в мир фантазий, карандашей и красок.
В то же время мне с ранних лет твердили, что творчество — это, конечно, здорово, но нужно и деньги зарабатывать. То есть хорошо бы, Сева, если бы ты в будущем стал режиссером, но еще и банковским делом немного занимался.
В школу — физмат лицей — меня отдали пораньше, в 6 лет. Этим фактом в семье гордились: не то, что соседский сын, который — в 7 пошел или даже в 8. В целом учился я прилежно, за поведение было «пять», за питерские гаражи не бегал. Ходил в кружки живописи, рисунка и лепки, и мне очень нравилось. Но потом я стал хуже успевать по математике, и кружки сразу отменили.
После школы надо было решать, кем становиться дальше. Помню, как папа говорил: «Кем угодно — только не скульптором!» На мой вопрос «Почему?» он продолжал: «Ты все время будешь в одном и том же свитере. От тебя будет пахнуть алкоголем. И в любом возрасте у тебя будут непонятки с женщинами». Остальные родственники отца поддержали: «Творчеством заработать сложно. Лучше бы математикой дальше занимался — мы же не зря на тебя 10 лет всей семьей молились».
В итоге я поступил в СПБГУ на экономический, хотя экономика мне не нравилась вообще. И вот ближе к концу универа, лет в 20, все стало попахивать депрессией: я поправился, много лежал, не отвечал на звонки близких. При этом я знал, что существует терапия, читал книжки Нэнси Мак-Вильямс. Я когда-то услышал, что психоанализ хорошо подходит белым мужчинам-невротикам и с достатком выше среднего. И я подумал: ну, в принципе на меня похоже. И пошел в психоанализ, в самом его классическом «кунг-фу» виде, — когда лежишь на кушетке.
В терапии я, как детектив Коломбо, пошел по семейному следу. И тут стали выпадать из шкафов разные скелеты. Выяснилось, что мама, хоть и архитектор, но от природы не очень творческая, она — тревожная и не любит хаос. И перспектива вырастить богемного сына-художника ее, конечно, настораживала. Отец, как и я, не ладил с математикой и любил писать картины. Но ему запретили быть художником — и он стал конструктором. Я смутно начал догадываться, почему родители так топили за математику, экономику и капитализм. Но сначала на сессиях все отрицал.
Я был в плену стереотипа, что все-таки это родители — любили, как могли, и вообще в СССР психоанализа не было, как мне однажды заявил отец. Железобетонный аргумент, кстати. Я отказывался признавать, что меня слишком контролировали и опекали, хотя в глубине души знал, что мне это никогда не нравилось. Но я защищался и доказывал терапевту, что все это вообще не парило, не обижало, не злило. А она отвечала: «Да, возможно, — но мы с вами уже 20 минут про это говорим».
Постепенно я признал, что с детства жил в мире родительских оценок и ожиданий. И застрял в них, потому что часто эти ожидания отнимают столько ресурсов, что ты уже не знаешь, чего хочешь сам. И вот тебе за 30, а ты как будто так и не вырос и с родителями остался в позиции ребенка. У тебя куча загонов и ответственности. Ведь ты же хороший и умный, должен все делать правильно и круто.
При этом попытки творчества у меня были неоднократно, но при первых неудачах я все бросал. Я сдавался и шел на поводу у родительских ожиданий: понятная работа 5 дней в неделю, культ пятницы, визитки, зарплата на карточку. Во мне копилась обида, я избегал брать трубку, когда мама или папа звонили, а еще мне было страшно, что однажды наступит смерть души. И я до конца жизни застряну не только в ожиданиях, но и в этом сценарии в принципе: график 5/2, рубашка с бейджем и honey, I’m home (англ. «Дорогая, я дома»).
Все 5 лет в терапии я долго в себе разбирался — кто я вообще такой, из чего состою. Если привести метафору, то ты как будто заходишь в комнату и внимательно ее разглядываешь: что где лежит и главное — кто это туда положил? Это необходимо понять, прежде чем что-то внутри этой комнаты менять. Сначала нужно побыть с тем, что есть. Мне терапевт так и говорила: «Иногда надо просто пожить».
Постепенно я начал сбрасывать доспехи — комплексы, защитные механизмы. Оказалось, что мои настоящие желания блокировал стыд не оправдать ожидания, которые на меня навешали. Помню, как меня впечатлила информация, что он порой влияет на нас сильнее, чем страх смерти. И работать со стыдом дальше мне помог стендап — в каком-то смысле я в него сбежал с понятной работы, как за гаражи.
Когда ты впервые выходишь на сцену и трясешься от ужаса, когда произносишь шутку и после этого слышишь только шум вытяжки очень долго, когда в начале карьеры про тебя говорят «А вот этот в очках — это вообще кто?» — ты встречаешься и взаимодействуешь со своим стыдом. Сначала очень страшно, потом уже не так сильно, а спустя время становится вообще нормально. Ты уже как Ван Дамм, который бил ногой по дереву, пока его не поломал.
Постепенно стендап стал получаться все лучше и лучше — и здесь снова помог психоанализ. Ведь пока ты какую-то проблему или травму до конца не разберешь и не проработаешь, ты не можешь классно над ней пошутить.
Стендап дал мне свободу, но вместе с ней пришла и ответственность за провал. Ее уже нельзя было спихнуть на родителей, если зал не оценил шутку, которую написал я. Или если бы я спасовал, вернулся в офис, то преградил бы себе дорогу в творчество сам — и мама с папой тут уже ни при чем. Я понял, что обвинять родителей во всех своих травмах, винить в неудачах, а самому при этом поднимать лапки при первых сложностях — это беспомощная позиция. Мы действительно становимся сильнее через травмы, если идем в них и прорабатываем до конца.
Я помню, как пригласил отца на концерт в первый раз — и он пришел. Ему понравилось. Правда потом он мне отдельно сказал, какие шутки убрать, но прикольно, что его мнение совпало с мнениями профессионалов. Я правда их убрал — и стало лучше. На следующий день я ходил весь день смурной, а потом разрыдался, как Беатрикс Киддо в финале «Убить Билла». Потому что у меня какой-то очень большой гештальт закрылся.
Помню, как в детстве я смотрел «Индиану Джонс», часть про поиски грааля. И вот летят персонажи Шона Коннери и Харрисона Форда в дирижабле, и один другому говорит: «Мы так никогда нормально и не разговаривали». И я мелкий думаю: «Ну вот чего они, вроде же взрослые дядьки». А в 31 год я по-другому взглянул на эту сцену. Я уже усвоил к тому моменту, что, если я взрослый, то могу сам позвонить и поговорить с родителями, а не просто обижаться. В итоге у меня случился очень глубокий разговор с отцом: я пересмотрел его жизненный выбор, понял его больше.
Я понял, что когда с близким или важным тебе человеком не разговариваешь подолгу, то можно вообще очень интересную схему построить, почему он такой/так себя повел. И в итоге в своих фантомах и проекциях так и булькать. А можно — начать вести себя по-другому, и тогда человек через какое-то время перестраивается и действует тоже по-новому. И вот уже разговор с ним — это не какая-то неуправляемая вагонетка, где ты вообще ничего не контролируешь.
С мамой тоже был сильный момент. Как-то мы идем по делам, а она вдруг говорит: «Блин, за столько всего переживаю, где ошибок в воспитании с тобой понаделала». А мне как бы уже не надо. Я уже больше не тревожусь о том, что мне недодали, в чем были не правы. У меня не осталось обид, я не жду, что передо мной будут извиняться.
При этом я замечаю, что с моим сыном родители уже совсем по-другому себя ведут. И он — по-другому ведет. Вручая его маме на две недели, я не переживаю, что она будет ему какие-то травмы наносить. Одним словом, люди гораздо эластичнее, чем может показаться на первый взгляд.
Читайте также
- Денис Чужой: признать достижения 2 407 просмотров
- Партнер младше 10 256 просмотров
- Нужно ли искать свою половинку 4 020 просмотров