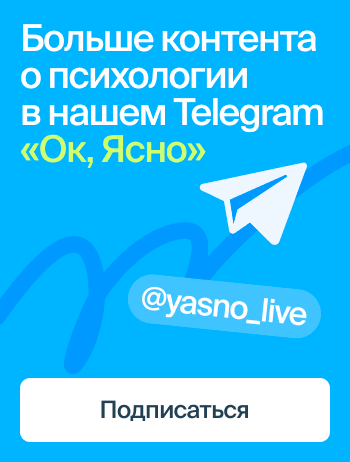Как я живу с паническим расстройством
Автор: Анна Комиссарова, 21 ноября (15 296 просмотров)

Сценарист Ева Левенсон рассказала о том, как научилась жить с паническими атаками и даже извлекать из них пользу.
С детства я чувствовала себя самым несчастным человеком на свете, несмотря на то что росла в тепличных условиях. Не могу объяснить, откуда взялось это чувство. Родители меня очень любили и вложили в мое воспитание двести пятьдесят процентов своих сил. Мы не испытывали нужды в деньгах и постоянно куда-нибудь выбирались: в театр, на экскурсии, в поездки за границу. Нам не приходилось надолго разлучаться, родители брали нас с сестрой даже в отпуск.
С мамой мы всегда были очень близки, но поделиться с ней самыми глубокими переживаниями я не могла. Не хотела делать ей больно. Папа проявлял свою любовь настолько сильно, насколько мог, но ему было тяжело, он не умел общаться с нами. Он читал нам стихи перед сном, но в то же время часто срывался на крик и даже мог ударить, если что-то пойдет не так. Как-то раз папа ударил меня по лицу колготками из-за беспорядка в комнате. Недавно у него диагностировали биполярное расстройство.
С сестрой у нас напряженные отношения. Когда я родилась, ей было три года. С тех пор она продолжает доказывать, что все равно лучше меня. В детстве сестра устраивала конкурсы, в которых сама же побеждала. Мне постоянно от нее доставалось, я была виновата буквально во всем и чувствовала себя козлом отпущения. Заручиться поддержкой родителей не получалось. «Мы устали, решите сами свои проблемы», – отмахивались они. Перед нападками сестры и криками отца я чувствовала страх и беспомощность. И не было никакого стоп-слова, которое могло бы это прекратить.
Первый раз паническая атака у меня случилась в 14 лет на фоне аэрофобии, которой родители особо не придавали значения. Мы должны были с семьей улетать из Швейцарии. Сидели в ресторане за день перед вылетом, и вдруг я поняла, что со мной происходит что-то не то. Душа как будто ушла в пятки, я потеряла ощущение тяжести своего тела. Тревога сменилась ужасом: казалось, что я скоро умру. Я еще не знала, что это называется паническая атака. Решила, всему виной мои первые опыты с сигаретами и алкоголем. У меня тогда начинался переходный период и вместе с ним дикая тяга к саморазрушению. Родители тогда списали все на внезапный спазм сосудов и дали феназепам.
С возрастом мое страдание стало усиливаться. Теперь я страдала из-за безответной любви, и на этой почве увлеклась наркотиками. В пятнадцать лет я попробовала траву и феназепам с водкой, в шестнадцать – амфетамины и экстази. Тогда же я поступила в литературный институт и играла в группе рок-н-ролл на бас-гитаре. Это не мешало мне в раз год стоять ночную службу на Пасху и причащаться. Я была так воспитана. Но чаще заходить в церковь я стала после девятнадцати лет, когда поняла, что не могу больше торчать. К тому моменту у меня уже было две передозировки.

В двадцать лет у меня случилась вторая паническая атака. Я все еще не понимала, что со мной происходит, мне было очень страшно. В тот период я рассталась с молодым человеком, мать которого пережила клиническую депрессию. Помню, как она, смакуя подробности, делилась своими воспоминаниями. Я очень восприимчива: если мне сказать, что в чае размешали ЛСД, у меня начнутся галлюцинации.
Первый психиатр, к которому я попала, сказала мне, что я сама разрушила свой мозг. Она поставила диагноз – паническое расстройство и прописала нейролептики и антидепрессанты. Помню, что на приеме я чувствовала себя так, будто совершила фатальную ошибку и теперь мне придется за нее расплачиваться. Я купила все препараты, но так и не начала курс. Боялась, что лекарства изменят мое сознание.
После встречи с психиатром я впала в депрессию, перестала ездить в метро, ходить на работу и на полгода просто слегла. Мне казалось, что у меня страшная болезнь. Атаки могли случиться в любой момент, и я не могла это состояние контролировать. Со временем я отследила триггеры, которые вызывали тревогу. Сначала меня накрывало в слишком людных местах и после разговоров с папой, потом панические атаки стали появляться перед сном. Позже психотерапевт объяснила мне, что перед сном психологические барьеры рушатся, поэтому сложно отследить мысли и чувства, которые вылезают в этот момент. В самые тяжелые периоды психастении у меня начиналась бессонница и кошмары. Помню такой страшный сон: я была в гостях у человека, который делает одежду из человеческой кожи. Мы ходили по ковру, сделанному из людей, а потом он показал мне боа из частей тел разных женщин. Когда я проснулась, то подумала, что схожу с ума.
Потом я поняла, что от панических атак помогает все что угодно, но только не постельный режим. Когда человек с паническим расстройством признает себя больным, он проваливается в бесконечную пучину страданий. Мои атаки на некоторое время закончились, когда я просто начала работать, как проклятая. Постоянно ездила на съемки и отвлекала себя, как только могла, пока не появился новый молодой человек. Моя жизнь стала вращаться вокруг него и его изменчивых планов и настроений. Он выносил мне мозг, и в то же время заботился обо мне, я была привязана к нему как к лекарству. Три часа в день я чувствовала себя нормально, остальное время пребывала в состоянии дереализации и деперсонализации – это как обкуриться плохим гашишом, находясь в аквариуме. Очень тяжелое состояние, при котором сжимает голову, и ты начинаешь смотреть на происходящее со стороны.
К 25 годам я дошла до точки невозврата. Поняла, что не могу так больше жить, и отправилась к другому психиатру. Она объяснила, что существуют не только медикаментозные способы лечения и предложила пойти на групповую терапию. Я отказалась, зная о том, как восприимчива, и о том, что не смогу быть полностью искренней. Скорее всего, начну играть на публику, изображая жертву. Так что я выбрала индивидуальную психотерапию.
Долгое время я искала ресурс в своем страдании и пыталась преобразовывать его в творчество. Один из своих лучших стихов, который был даже переведен на английский, я написала для своего психотерапевта. Но у такого самовыражения была и обратная сторона. Знакомая позже призналась, что избегала встреч со мной, потому что не хотела слушать подробности моих переживаний. Я с упоением рассказывала истории из своей жизни и о том, как мне было плохо, превращая затем все это в рассказы и сценарии. Сейчас я гораздо меньше выставляю свою жизнь напоказ. Правда в том, что, когда панические атаки происходят в реальности, мне очень сложно просить о помощи, я чувствую себя слабой и уродливой.
В ходе работы с психотерапевтом я поняла, что панические атаки – это не какая-то страшная болезнь, с этим можно научиться жить и не пить таблетки. Когда я не знала, что со мной происходит, начинала еще сильнее себя накручивать: «все, конец, я умираю». Сейчас я знаю, что тревога может перейти в паническую атаку, а может и не перейти. В любом случае я умею ее проживать. Если чувствую, что меня накрывает, начинается спазм сосудов, то начинаю сама себя успокаивать, в том числе и с помощью молитвы. Еще я знаю физические упражнения, которые сильно облегчают это состояние, но иногда я просто раздеваюсь и ложусь на пол, чтобы почувствовать свое тело и распределить вес. Тогда я понимаю, что не умираю и начинаю выравнивать свое дыхание.
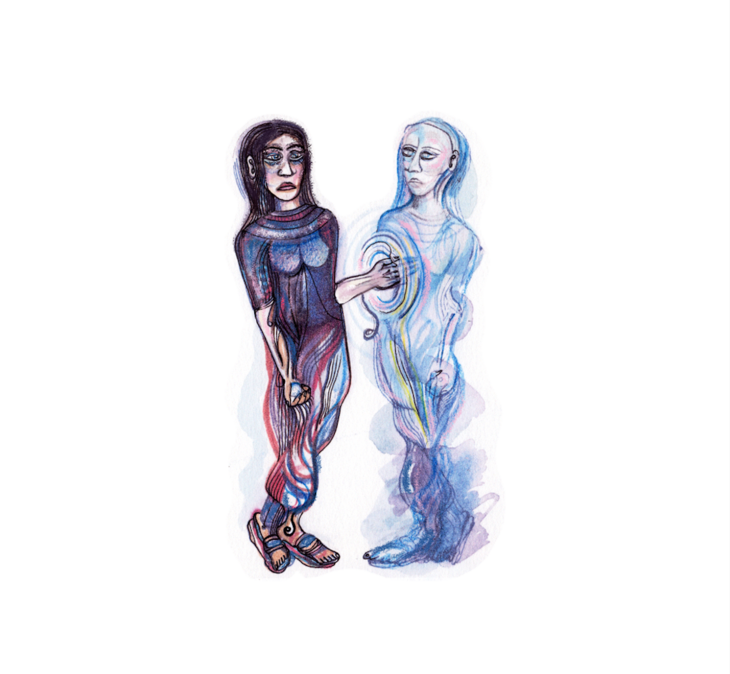
Сейчас панические атаки возникают редко, но периодически я по-прежнему испытываю дереализацию. Последний раз это случилось, когда я была на сцене – участвовала в спектакле «Вакханки» Всеволода Лисовского. Помимо меня играли пятнадцать женщин и мужчин, все абсолютно голые – ситуация изначально дискомфортная. Спектакль длился час. Когда я вышла на сцену, то старалась не думать о том, что будет дальше. У меня началась сильная дереализация: я как будто смотрела кино, а потом у меня закружилась голова. Но все же к концу спектакля я начала получать удовольствие от происходящего.
Мне всегда тяжело, когда вокруг много людей. Еще мне тяжело смотреть фильмы про космос и думать о том, что он бесконечен, а Земля – всего лишь маленькая точка. Тяжело вместить в себя понятие вечности и бесконечности. В такие моменты я нащупываю на руке пульс или стараюсь подвигаться, чтобы почувствовать свое тело.
Почти десять лет я со всем этим живу и неплохо научилась справляться. Я воспринимаю тревожность не как болезнь, а как свою особенность, которую использую как ресурс. В состоянии дереализации или деперсонализации, то есть в измененном состоянии сознания, у меня открываются творческие способности. Я знаю, что могу придумать что-то необычное.
Читайте также
- Как психотерапия меняет ваш мозг (в лучшую сторону) 69 817 просмотров
- «Успешный успех»: а он вам точно нужен? 2 424 просмотра
- Как строить отношения с избегающим партнёром? 7 854 просмотра